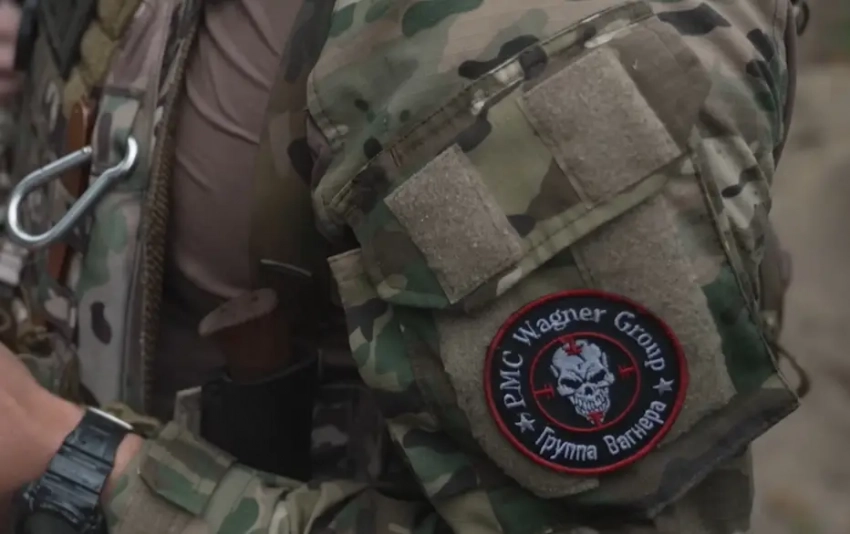Азербайджан и Россия — на перекрестке двух южных коридоров
Отношения России и Азербайджана уверенным и довольно бодрым шагом прошли указатель, на котором можно прочитать «Точка невозврата». Нет особого смысла повторять описание последних событий на российско-азербайджанском «треке» — их видят или уже видели если не все, то очень и очень многие.
Проезд на данный указатель вовсе не означает, что обе страны вступят в лобовую конфронтацию. Более того, рано или поздно мы увидим некоторый откат назад в риторике и действиях сторон, просто откат станет формальным, а прежними эти отношения уже не будут.
После эмоций
Понятные и совершенно обоснованные эмоциональные оценки за прошедшие две недели даны, версии произошедшего выдвинуты (основных набралось уже более десятка). Несомненно, что в российском общественном дискурсе в целом приветствуют жесткие варианты ответа Москвы на откровенные демарши Баку.
Значительная часть общества надеется на то, что локальные силовые акции со стороны российского государства перерастут-таки в полноценную волевую политическую позицию, направленную на ограничение влияния этнических сообществ из ряда стран бывшего СССР. Подобные надежды вряд ли оправдаются, но само их наличие свидетельствует о многом.
При всех эмоциях, попытках прогнозов и ожиданиях, нельзя не отметить, что в российской экспертизе, СМИ, а также социальных сетях и на форумах испытывают откровенное удивление. Очевидно, что инициатива обострения, грозящего чуть не разрывом отношений между Москвой и Баку, исходит от Азербайджана, но столь же очевидно и то, что азербайджанские правящие элиты этим же активно пилят собственные и весьма серьезные экономические опоры.
Пользоваться своим влиянием в России элитам Азербайджана намного выгоднее в обстановке формального спокойствия и «реверансов дружбы», чем наоборот. Именно эта подчеркнутая нерациональность политики со стороны Баку и вызывает удивление.
Жертвовать выгодой, да еще выгодой стабильной, связанной с политическим влиянием, может вынудить либо обоснованное ожидание выгод существенно больших, либо комплекс обстоятельств непреодолимой (с точки зрения смысловой матрицы правящей группы) силы, либо имеет место сочетание обоих факторов. В данном случае, по всей видимости, мы имеем дело именно с сочетанием факторов.
По российским «интернетам» как-то очень «вовремя» стали распространяться выдержки из весьма давнего (1995 г.) выступления Гейдара Алиева перед представителями диаспоры в Швейцарии, где он рассказывал, как формировал сеть влияния Азербайджана в СССР.
Сейчас это на понятной волне выглядит как «срыв покровов», хотя по сути ничего нового и даже просто интригующего там нет. Было бы странно, если б он этого не делал, просто у него получилось лучше, чем у других элит национальных республик бывшего СССР. Проблема тут не в его намерениях и мотивах — они как раз понятны, а в том, что в эту игру невозможно играть в одиночку. Требовался второй игрок — политические элиты самого СССР, а позже и России, которые не замечали, поддерживали и т. д.
Также было бы странно, если бы после распада и раздела СССР Азербайджан не выбрал в большой политике «протурецкий вектор», прямо или косвенно проводя линию на поддержку турецких проектов. Даже привлекая глобальные или иначе — транс-национальные инвестиции в сырьевую сферу, Баку совершенно сознательно и добровольно сверял экономические и политические часы с Анкарой. Азербайджанское лобби было создано при нашем же волеизъявлении, турецкий вектор — предопределен исторически. Какова третья часть силлогизма? Азербайджанское лобби — это объективный проводник турецких интересов в России. Есть еще и четвертый тезис, вытекающий из первых трех: пределы и границы напряженности между Баку и Москвой со стороны Азербайджана будут определяться через консенсус между Баку и Анкарой.
Все это выглядит как набор банальных утверждений, понятных практически любому, тем не менее раз за разом мы наблюдаем дискуссию о том, как же так вышло, мол, влияние и лобби, синергия с Турцией и проводники этого вектора в России. Как неожиданно...
Вопрос выбора модели. Вначале была Турция
Столь же «неожиданным» оказывается и стыковка интересов Турции и Великобритании в стиле «долгий попутчик». Попутчиками они являются с начала 2000-х годов, периодически подставляя друг другу плечо. И вот если убрать этот абсурдный по сути «фактор неожиданности», то точкой невозврата становится выбор со стороны Баку не просто политической позиции, коалиции и т. п., а политэкономической модели как таковой.
До Азербайджана это уже сделала два года назад Турция (тоже отчего-то незаметно для многих), теперь пришло время для Баку. Такой выбор определяет долгосрочные шаги и стратегии, и ради этого пришло время рискнуть и, возможно, что и пожертвовать частью текущих доходов, связанных с работой с Россией. Эту политэкономическую модель Турции (а следом и Баку) предлагает Евросоюз, который по славной отечественной традиции хоронят чуть не каждый квартал и не по одному разу. Судя по всему происходящему в Баку, риски и возможные затраты, с учетом накопленного влияния, оценивают в целом как невысокие, а выбор модели сделан вполне осознанно. Резоны для этого действительно имеются.
Говоря о модели, которую предлагает ЕС, обычно подразумевают собственно Евросоюз как таковой, однако еврозона — это не только и не столько ЕС в виде юридической общности из почти трех десятков стран, сколько сборка из четырех взаимосвязанных экономических и политических контуров. Все вместе это и составляет европейский макроэкономический кластер, пределы которого определяются не политической линией, а созданием общей стоимости. Общая стоимость рано или поздно даст и общий политический вектор, но никогда общность политики не переломит «обуха» общей стоимости или не заменит ее отсутствия.
Именно это было и будет ахиллесовой пятой ЕАЭС, БРИКС и прочих подобных «институций». Особенностью ситуации с Азербайджаном является (в отличие от Турции) то, что выбор, с кем и как создавать эту общую стоимость, не был предопределен. В принципе Россия могла бы не столько купировать протурецкий вектор Баку, а иначе строить взаимодействие с Турцией. Но это, говоря в разрезе «если бы».
Турция, конечно, имеет свой знаменитый уже проект «Великий Туран», который с разной степенью успешности продвигает вдоль и поперек. Тем не менее главный рынок товаров и услуг, труда и капитала у Анкары находится в Европе. По большому счету и Россия до последнего времени была его такой же частью, просто ее от него сознательно и последовательно отрезали с 2015 г., а Турцию отрезать не собирались, хотя этим и грозились.
Известная ирония по поводу того, что Турция может еще лет пятьдесят ждать приглашения в ЕС, является иронией поверхностной, а сам тезис удобен для политических торгов по случаю. В реальности Турция с ее проектами, далеко не всегда политически одобряемыми в Брюсселе, является третьим контуром европейского макрокластера со своими условиями совместной работы, таможенным режимом, инвестированием и т. п. В реальности ни Анкаре, ни Брюсселю присоединение собственно к ЕС не требуется, а требуется развитие и углубление отношений в рамках этого третьего контура.
Во второй половине 2023 г. Анкара делает окончательную ставку на такой вариант в своей стратегии. В России это было отмаркировано т. н. «делом азовцев», отпущенных обратно на Украину. На самом деле маркеров было много больше, просто они относились к финансово-экономической сфере. С августа 2023 г. процесс развития турецкого контура ЕС набирал обороты, и вряд ли стоит отдельно говорить о том, как обратный процесс столь же последовательно шел в плане российско-турецких отношений. Явным он стал уже в январе-феврале 2024 г.
Выбор без газового хаба
Сейчас на дворе вторая половина 2025-го, и ЕС на политическом и экономическом треках хоть и проходит непростой период, но при этом умудряется и держать бюрократию в узде выраженной неолиберальной повестки, и консолидировать военно-промышленный комплекс Германии, Великобритании и Франции. Да, за счет темпов экономического роста и некоторого снижения уровня жизни населения, но столь уж он критичен в реальности? Тут еще раз стоит напомнить о том, сколько панихид уже у нас в экспертизе отслужили по экономике ЕС, а также собственно Турции.
Частью этого комплекса становится и турецкий ВПК. В целом усиление Турции в Африке, на Ближнем Востоке и уж тем более в Закавказье играет на руку Брюсселю, хотя по частным вопросам у них есть разногласия и трения (взять ту же Ливию). На страновом уровне Турция и Азербайджан конкурируют с Францией в Закавказье, но это конкуренция внутри общей модели, а не извне ее. Если Россия не часть этой макромодели (а она уже де-факто не ее часть), то что конкуренция, что союзы Турции с Францией ли, Великобританией ли и т. п. априори будут работать против интересов России в регионе.
То, что Турция выступает для Брюсселя и Лондона как своего рода наконечник копья, пусть и оппонентом в плане Франции, по большому счету устраивает все стороны процесса, кроме России. При этом отношения в рамках третьего контура как раз и позволяют участникам строить политику по принципу «что-то для себя, что-то для других».
Что держало Турцию, а следом и Азербайджан в поле синергии с политикой России? После 2023 г. это проекты «газового хаба». Собрать у себя потоки из России, Туркмении, Ирана, Ирака, Ливии и Средиземного моря было слишком крупным куском, которым можно было бы обеспечивать интересы в торгах с Европой. Срединный торговый коридор через Каспий и Кавказ, выход на Афганистан и Пакистан, при преимущественной для Турции торговле с Ираком, Сирией — немалый логистический «бонус». Азербайджан являлся органической частью этого энергетического и торгового хаба, тем более с его положением в плане проектов по линии «Север — Юг».
Теперь возникает простой вопрос — где и в каком состоянии проекты «газового хаба», если брать декабрь 2024 — середину 2025 гг.? Ответ простой — нигде. ЕС не стал расширять южное направление и вкладывать в него средства, хотя одно время казалось, что именно там Брюссель в итоге и заместит объемы российского сырья. Тем не менее в последовательности евроэлитам тут отказать нельзя. Они, может, не столь решительны, как хотят казаться, но они последовательны в отношении России.
В Турции и Азербайджане это в свое время вызвало весьма звучные комментарии, но итогом был выбор между присоединением к европейской модели или модели российской. При этом, говоря о модели российской, мы больше говорим о теоретической интеграции, а вот европейский макрокластер существует де-факто. Вот, собственно, выбор и был сделан. ЕС закрывает вопросы по т.н. «Зангезурскому коридору» и усилению Турции в Закавказье, уступает фактически Армению, Азербайджан «многовекторно» подыгрывает США и Израилю, но при этом жертвует интеграцией с Россией.
Это выбор, часть рисков которого Баку явно планирует купировать за счет накопленного влияния в России и инерции отношений, которая весьма характерна для российской политической машины. В Баку неплохо знают наши специфические болевые точки и не зря сейчас пошли в ход темы «создать базу НАТО» или «американская ЧВК будет охранять Зангезур». Впрочем, и так понятно, что после подписания итогового мирного договора между Арменией и Азербайджаном истории с Арменией в ОДКБ, базой в Гюмри, а скорее всего, хоть и несколько позже, и с членством Армении в ЕАЭС подойдут к своему завершению.
Выводы
Порассуждать о том, а могло ли быть иначе, в принципе можно, но в таком случае надо переходить к ситуации политических развилок 2014–2015 гг. по Украине и 2018–2020 гг. по Сирии. Там можно было еще заложить некоторые блоки в альтернативный фундамент. Сейчас уже требуется просто оценить реалии и последовательно усиливать те немногие сильные стороны, которые еще остаются в нашем активе.
Во-первых, надо все-таки определить проектные масштабы грузоперевозок через сухопутный маршрут по линии Иран — Россия через Азербайджан. Имеет ли вообще смысл дальше упираться в тему железнодорожного сообщения через Азербайджан. На самом деле надо создавать такую инфраструктуру и давать такие преференции, чтобы малотонажный судовой парк переходил с Азовского и Черного морей на Каспий. Это не лучший вариант, поскольку обслуживание торгового судоходства — это еще и работа на берегу. Но в таком случае флот надо где-то брать, строить, покупать. Вопрос где и когда.
Во-вторых, пришло время вкладываться в туркменскую логистику и предлагать совместные проекты, но таким образом, чтобы за этим стояла только экономика процесса, но не политическая линия и тем более не военно-политическая.
В-третьих, надо воспользоваться тем, что трамповская команда пока не дала и, видимо, еще не скоро даст серьезные и стратегические предложения для Индии. Индия вообще выпала из поля зрения Белого дома, что сильно контрастирует с подходами прошлой администрации. Между тем линия Иран-Индия — это последний реалистичный коридор для России на мировой рынок. В этом плане успокоительные тезисы по теме отношений Москвы и Баку с некоторых довольно высоких трибун выглядят как минимум странно — если закроется сухопутный коридор с севера на юг, то дальше что? А если «само собой не рассосется»?
В-четвертых, есть варианты, которые требуют определенной степени прагматического цинизма. При этом у нас традиционно с цинизмом все в порядке, а вот с прагматикой уже как-то сложнее. Уязвимая часть этой европейской и турецкой макроконструкции — это Франция. Своего рода военный пакт между Берлином и Лондоном — это минус Парижу, Турция и Азербайджан работают конкурентно Франции. Турция играет против Франции в Африке, Сирии и Ливане. Мирный договор с Арменией на условиях Турции и Азербайджана — в минус Франции. У бенефициаров г-на Э. Макрона свои взгляды на торговые коридоры в Средней Азии и порты в Черном море, не говоря уже о Грузии. Собственно, и сам Э. Макрон не зря уже то пытается выйти на контакт с Москвой, то изрекает агрессивные тезисы. Может, пришло время рационального закулисья. Раньше особые отношения с Азербайджаном и Турцией этому препятствовали (в числе прочих факторов, конечно).
Определенные ставки и США, и Россия, очевидно, делали на ниве переговорного процесса. Как ни странно, но некоторые из них даже дали некоторый выигрыш, но в плане южного торгового коридора и Ирана тут позитивного ничего нет.
Ответ Москвы в плане ограничения влияния Азербайджана в российской экономике и политике может быть довольно внушительным, но прежде всего следует держать в уме то, что выбор, который описан выше в материале, уже Баку сделан. А это значит, что при разработке стратегии тут, согласно американской стилистике, теперь не следует вообще рассматривать в плане южного коридора Азербайджан ни как часть проблемы, ни как часть ее решения.
- Михаил Николаевский
Обсудим?
Смотрите также: